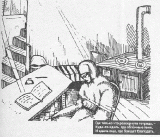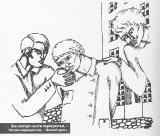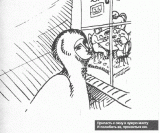Париж, улица Лурмель, 77
Сайт автора: ariadna.tk
Глава из романа «Возвращение в эмиграцию» Ариадны Васильевой
Трехэтажный особняк на улице Лурмель русская монахиня в миру мать Мария сняла в аренду лет за пять до войны. Под пансион для престарелых эмигрантов. Но это был не только пансион.
Особняк был заброшен, запущен, требовал капитального ремонта, но на ремонт у матери Марии так никогда и не хватило средств. Сам по себе особняк не имел особого значения. Живут люди и живут. Главной достопримечательностью на Лурмель была православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, устроенная из бывшей конюшни. Кирпичное, основательное строение находилось во дворе особняка, и к нему вел отдельный ход. Церковь Покрова как бы главенствовала над всеми остальными в пятнадцатом аррондисмане (округ Парижа), где всегда селилось много русских. В дни православных праздников на Лурмель собиралось столько прихожан, что просторный двор не всегда мог вместить всех желающих отстоять службу, послушать приходящий, очень хороший хор Поторжинского.
Поторжинских, обладателей глубочайшего баса, было два брата. Один, оставшийся в России оперный певец, другой наш, эмигрантский. Забавно, что по аналогии с донским казаком из ресторана в Шамони, созвучно с его легендой про «брата Шаляпина», эмиграция уверяла, будто «наш» Поторжинский лучше.
Церковь Покрова любили. В ней крестили младенцев, венчались, служили панихиды, в ней исповедовались не старому, но всеми уважаемому священнику отцу Дмитрию Клепинину. Принадлежала церковь Зарубежной епархии и подчинялась митрополиту Евлогию(Георгиевскому.
Сама церковь была просторна, светла, красиво убрана иконами старинного и нового письма. Особенно почитались иконы Пресвятой Богородицы и Христа-спасителя в ризах, расшитых цветным бисером и жемчугами. Стоило лишь послеполуденному солнцу протянуть из окошек под потолком косые лучи, ризы эти, тяжелые, будто кованные, загорались многоцветными искрами, отдавали неземной свет печальным и кротким ликам. Великолепное шитье для двух икон у аналоя выполнила великая искусница мать Мария.
Слева от входа в узкую, вытянутую в длину церковь, размещался стол, где можно было купить свечи, крестильные крестики, иконки, молитвенники, изданные на серой ломкой бумаге. По правой стороне шла глухая, без окон, стена, увешанная иконами. Первым, помню, было изображение святого Серафима Саровского в голубом с крестами одеянии, с поднятой благословляющей рукой.
Со двора можно было пройти к черному ходу в особняк, к флигелю, к хозяйственным пристройкам. Черным ходом пользовались свои, гости приходили с парадного, с улицы. С обычной парижской улицы, стесненной домами, с проезжей частью, мощенной серым булыжником.
Придя в дом с парадного, ты оказывался в овальном, просторном холле. Было здесь пусто и гулко, и пол был покрыт квадратными плитками, темными и светлыми в шахматном порядке, местами выбитыми и качающимися под ногой. По периметру холла располагались четыре двери, по две справа, по две слева от широкой лестницы с пологими ступеньками, ведущими на этажи в жилые комнаты.
Здесь, внизу, находились столовая и кухня. Окна столовой выходили на улицу, и поэтому в первой половине дня здесь не было солнца. В кухню же, обращенную частью окон на задворки, на еще один крохотный дворик, оно начинало бить с раннего утра. С первыми лучами сюда приходили мать Мария и мрачный, черноватый Анатолий. Матушка стряпала, Анатолий топил печку, гремел ведрами, грел воду, бегал на хозяйственный двор за углем, мыл посуду. В глазах его стыла никогда не проходящая тоска.
Когда-то давно французы засунули его по ошибке в сумасшедший дом. Матушка вмешалась, вызволила, взяла на поруки и поселила в одной из комнат флигеля. Так на Лурмель он и прижился, угрюмый, неразговорчивый, преданный матери Марии. Кроме молчаливости, никаких других странностей за ним не замечалось.
По другую сторону от лестницы находилась канцелярия. Стоял в ней массивный стол, крытый зеленым сукном, потертый местами, закапанный чернилами, заваленный бумагами и счетами. От многочисленных ящиков стола вечно терялись ключи, и тогда находившиеся в комнате начинали двигать стулья, становиться на колени, заглядывать под тумбочку, под застекленный шкаф, хлопать ладонями по столу, стараясь нащупать их через бумагу.
Хозяином в канцелярии был однорукий Федор Васильевич Пьяное, бывший офицер, человек строгий, державший протез в черной перчатке в кармане поношенного, но всегда тщательно отутюженного пиджака. Я знала его еще по ИМКЕ, по Монпарнасу. Он помогал устраивать наши детские лагеря.
Через несколько дней после переезда на Лурмель я зашла за чем-то в канцелярию. Он сидел там, узнал, как ни странно.
— А, коза, — сказал, и тронулись в улыбке тонкие губы, — и тебя прибило к нашему ковчегу.
В доме на Лурмель Пьянов не жил, он был приходящим работником, как и еще одна матушкина помощница — Ольга Романовна. Женщина добрейшая, деятельная, в отличие от матушки стоящая на этой грешной земле крепко, обеими ногами. Стоило матери Марии начать носиться с каким-нибудь несбыточным проектом, Ольга Романовна бросала на нее любовно-иронический взгляд. Матушка умолкала, остывала, спрашивала:
— Хорошо, а как, по-вашему?
Ольга Романовна добывала для столовой продукты и ведала прочими хозяйственными делами. Была она небольшого роста, всегда спокойная, с удивительно ясными светлыми глазами. Темные с сильной проседью волосы стригла коротко, что придавало ее миловидному, круглому лицу моложавость и даже некоторую кокетливость. Часто ее можно было видеть в канцелярии подле Пьянова, диктующую по списку, а его озабоченно щелкающего костяшками счетов. Судя по их постоянной занятости, ведение дома и церкви было делом хлопотным.
На первом этаже была еще одна комната, совсем маленькая, и находилась она под лестницей.
В этой комнатке было тесно, уютно, чуточку беспорядочно. Вплотную, одна вещь к другой, стояли кровать, комод, книжный шкаф, стол, этажерка. На комоде, на этажерках было множество всяких салфеток с ажурными вышивками ришелье, на кровати -расшитых шелками подушек. С потолка свешивался ручной работы, искусно сделанный абажур. На столе постоянно лежало незаконченное рукоделие, картонка с клубками ниток, цветной шерсти, коробочки с бисером, пяльцы, рассыпанные булавки. Стопками и перевернутые корешками вверх, лежали книги.
Из угла, из-за теплящейся лампады, на всю эту легкомысленную неразбериху взирал строгий лик Спасителя с благословляющей рукой. На стене висел портрет молоденькой девушки.
В этой комнате, совершенно не похожей на монашескую келью, жила мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Скобцова.
При слове монахиня может возникнуть в воображении облик такой строгой, погруженной в вечный пост и молитвы женщины. Ничего этого не было. Более жизнелюбивого, ровно и весело настроенного человека, чем мать Мария, мне не доводилось встречать. Она всегда была исполнена светлой радости бытия, она была удивительно счастливым человеком.
В 1940 году ей было около сорока восьми лет. Была она полная, подвижная, с румяным мягким лицом. Черты его не были правильными. Карие глаза прятались за стеклами очков в круглой оправе, нос толстоват на конце, на щеках — ямочки. Назад с высокого лба она гладко зачесывала волосы и прятала их под черным монашеским покрывалом. Покрывало и ряса, схваченная в широкой талии поясом, составляли ее повседневное одеяние. Лишь в дни церковных праздников мать Мария надевала клобук, положенный ей по церковному чину. Ходила она неслышно, легко, ловко переступая ногами, обутыми в мягкие чувяки.
Не могу сказать, портило ее или красило монашеское одеяние. О ней не пристало говорить, как о суетной женщине, хлопочущей о внешности. Матушка никогда не думала о производимом ею на людей впечатлении. Эта сторона жизни уже не тревожила ее, не имела никакого значения.
У нее была семья — единственный, из трех оставшихся детей, сын Юра, прекрасный мальчик, умница, студент. Здесь же, на Лурмель жила ее старенькая мама Софья Борисовна или, как ее все звали, бабушка. Брак матери Марии с Даниилом Ермолаевичем Скобцовым был расторгнут при ее пострижении, но ни бывшую жену, ни сына Данила Ермолаевич не оставил в своих заботах, часто навещал, всегда был желанным гостем, оставался со всеми в простых дружеских отношениях.
Две девочки — Гаяна, чей портрет висел в комнате матушки, дочь от первого брака с Кузьминым-Караваевым, и маленькая Настенька Скобцова — умерли. Малышка от дифтерии, Гаяна при загадочных обстоятельствах в Ленинграде.
Но не утрата двух дочерей привела Елизавету Юрьевну в монашество, хотя эмигрантские слухи на эту тему именно так и толковали ее поступок. Она при жизни Гаяны еще постриглась. Спрашивать же об этом у самой матушки никому бы и в голову не пришло, настолько это была деликатная и сокровенная область. И сама мать Мария принимала людей такими, какие они есть, не любопытствуя праздно о их душевной работе. Но почему-то в трудные минуты жизни бежали именно к ней, находя понимание и ласку, и помощь. Помощь активную, действенную и совершенно бескорыстную.
Ее интеллектуальная жизнь была скрыта от мира. Ни знаний своих, ни поэтического дарования она никогда не выпячивала. В ее отношениях с Богом не было ничего экзальтированного или фанатического. Не помню, чтобы от нее исходили упреки за нерегулярное посещение церкви или невнимательность во время службы. Да и вообще в обыденной жизни дома не принято было говорить на религиозные темы, хотя дом принадлежал именно церкви.
Находились церковники, считавшие мать Марию ненастоящей монахиней, косились на ее деятельность. Матушка к возне подобного рода относилась спокойно, выполняла свой долг, как считала нужным.
Можно смирить плоть, отказаться от земных утех. Труднее смирить натуру. Мать Мария, как была в прошлой жизни, так и осталась человеком страстным, увлекающимся, порой даже фантазеркой.
Матушкины мечты о создании большого пансиона, человек так на сто, поливали холодной водичкой рассудительности Ольга Романова и Пьянов, задавая один и тот же вопрос:
— Хорошо, но где взять деньги?
Мать смирялась, гасла, пока не возникала новая, такая же невыполнимая идея. Узки были для ее деятельного характера эмигрантские рамки. Другой дом в Нуази-ле-Гран так и не стал полноценным санаторием для туберкулезных больных, в доме на Лурмель проживало всего шесть-восемь старушек.
Но вот началась война. В 1939 году с благословения и поощрения митрополита Евлогия (Георгиевского), а он матушку любил и начинаниям ее покровительствовал, мать Мария создала «Православное Дело помощи семьям русских эмигрантов, мобилизованных во французскую армию». Это было официальное, зарегистрированное в комиссариате квартала Жавель пятнадцатого аррондисмана общество, и немцы, заняв Париж, не разогнали его. С церковью они считали необходимым либеральничать хотя бы для приличия. Увы, только до тех пор, пока церковь не начинала идти наперекор их «новому порядку».
Сколько всего народу входило в матушкину организацию, сказать не могу, не знаю. Самыми деятельными были отец Дмитрий Клепинин, Федор Пьянов, Юра Скобцов, Игорь Кривошеин, Константин Мочульский, Ольга Романовна (я не знала ее фамилии) и, до прихода немцев, И. И. Бунаков-Фундаминский.(Иногда пишут Фондаминский, ред.)
В самом начале оккупации Бунаков-Фундаминский был арестован, но не в связи с «Провославным делом». Немцы похватали наугад, кого придется, многих видных эмигрантов: И. А. Кривошеина, профессора Одинца. Неизвестно зачем и за что В. Красинского и многих других. Вскоре всех освободили, но для больного сердца Бунакова-Фундаминского бессмысленный этот арест оказался роковым. Он умер в тюрьме в Германии от сердечного приступа.
Поднявшись по лестнице на второй этаж особняка на Лурмель, ты оказывался в таком же овальном холле, но с деревянными полами, потемневшими и щелястыми. В том же порядке, что и внизу, здесь располагались комнаты общежития.
В самой большой, находившейся как раз над столовой, жили старушки. Шесть или восемь одиноких душ, и души их еле-еле держались в разрушенных временем телах.
Честно говоря, «одуванчики», как мы их тайком называли, были народцем ворчливым и занудливым. Матушку они постоянно третировали мелочными жалобами, между собой бранились, и до нас доносились отголоски их ссор. В комнате старух стояли кровати, тумбочки, были стенные шкафы, хранившие их скудный гардероб.
По соседству со старухами жила Софья Борисовна, беленькая, аккуратная, ласковая. Все нежно любили ее, и только она одна имела право называть дочь-монахиню светским именем Лиза. Да еще, пожалуй, Даниил Ермолаевич.
Следом шла комната Любаши. Той самой Любаши, нашей руководительницы на Монпарнасе. Она по-прежнему работала массажисткой, а за двумя ее девочками смотрела тетка, одинокая, навсегда разделившая судьбу с племянницей.
В следующей комнате жили Оцупы, бездетные муж и жена. Георгий Оцуп где-то работал, а жена его много времени отдавала нашей церкви, прибирала там, мыла окна и вообще следила за порядком. И была еще одна комната, где, часто сменяясь, жили какие-то люди, но имена их знать не интересно.
На третий этаж вела деревянная лестница, не широкая, не парадная, зато музыкальная, со скрипом на все голоса. Комнаты располагались в ряд, никакого холла здесь уже не было. Справа от лестницы — жилище отца Дмитрия, его жены Тамары Федоровны их дочки Леночки («Ладик», как ее все называли). Слева находилась комната Юры, здесь же останавливался бывавший наездами Даниил Ермолаевич. А комната, находившаяся между этими двумя, как выяснилось впоследствии, была предназначена нам с Сережей самой судьбой.
Замыкала третий этаж необъятных размеров ванная комната. Ванна в ней была. Недействующая, ржавая, страшная. Было несколько кранов, но надежный только один. По утрам сюда приходили умываться старушки и спорили из-за постоянного нарушения очередности.
Во флигеле во дворе жил Анатолий, некая Татьяна с престарелым отцом. Старик часто болел и показывался во дворе только в теплую солнечную погоду. Жила молодая супружеская пара Алеша и Ольга Бабаджаны. Алеша был служкой в церкви, а Ольга работала на стороне и держалась особняком от остальных.
Вот и все, почти, названное и не названное население дома, человек тридцать, если не считать детей. В сороковом году их было трое, в сорок втором пятеро. Большего числа жильцов дом на Лурмель вместить не мог. Ко всему прочему был он ветхий, утративший архитектурную ценность задолго до появления в Париже русских эмигрантов.
Но помимо постоянных жильцов на Лурмепь толклось куда больше народу, не считая приходящих в церковь. Я уже называла Пьянова и Ольгу Романовну. Была еще такая Софочка, существо экзальтированное, восторженное, поклонявшееся матушке и обожавшее Юру. Мать на Софочкины изъявления чувств смотрела скептически, сбивала иронией. Софочка занималась исключительно делами церкви вместе с Константином Мочульским. Он же был церковным старостой.
По вечерам, когда хлопотливый день завершался, и дом погружался в дрему, в канцелярии собиралась группа «Православное дело». К помощи семьям мобилизованных прибавилась еще обязанность устраивать воскресные обеды. Но это уже проводилось в содружестве с католическими благотворительными организациями. Откуда-то, приготовленные вне дома, привозились бидоны с едой, и зайти в столовую пообедать мог любой человек с улицы. На обед полагалось бесплатно одно, но сытное блюдо. Иногда это был густой суп, иногда каша, либо макароны с редким вкраплением сбоя.
Люди выстраивались в молчаливую очередь, входили партиями в столовую, получали еду, обедали и, поблагодарив устроителей, уступали место другим. Никаких проповедей и благодарственных молитв никто не произносил. Было не до этого. Человеческий поток не иссякал с утра до трех пополудни.
В доме на Лурмель мы прожили с Сережей три с половиной года.
Об авторе текста
Роман «Возвращение в эмиграцию», главу из которого мы здесь публикуем, несколько необычен. Это не только литературное произведение, но ещё и достаточно достоверный документ, рассказывающий о жизни русских в парижской эмиграции, до и во время Второй мировой войны. Текст написан Ариадной Васильевой на основе воспоминаний её матери, Елены Александровны Васильевой(Сумароковой).
Елена Александровна была девочкой, когда оказалась в эмиграции в 1923г., в конце тридцатых годов она выходит замуж за Андрея Ивановича Васильева и они получают кров и приют в доме на ул. Лурмель. Мать Мария помогает им выжить в трудных условиях оккупации Парижа. У них рождается дочь Ариадна.
Ариадна Васильева — драматург, писатель, живёт в Ташкенте. Автор многочисленных публикаций в журнале «Звезда Востока» и в периодической печати.